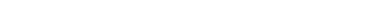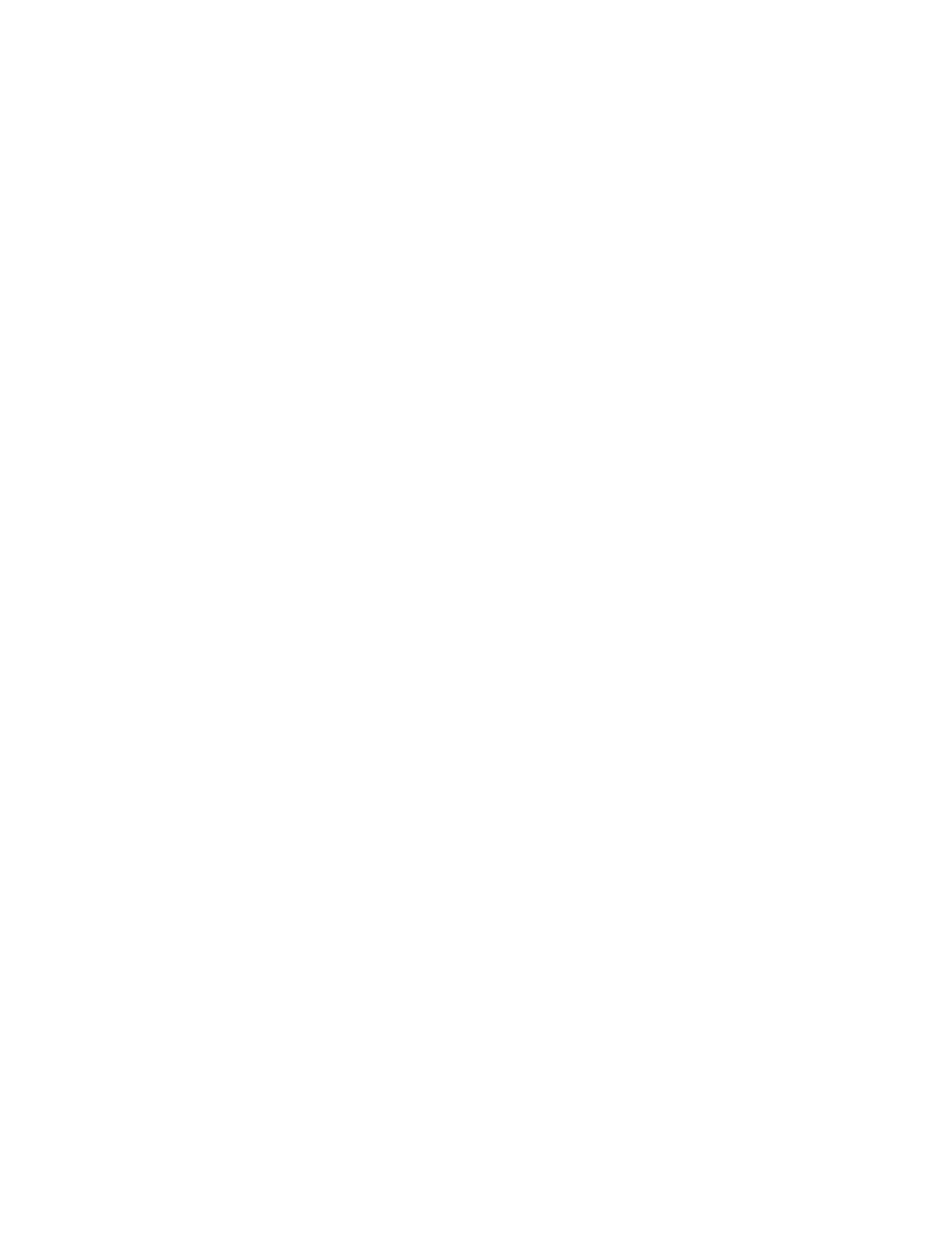Verification: 424ddac4c9c290d4
Портрет Анастасии Яковлевны Нарышкиной с детьми
Портрет Анастасии Яковлевны Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной*
Неизвестный художник, между 1709 и 1715, 171.5 х 131.5 холст, масло
Где увидеть: Государственная Третьяковская галерея, Зал 1
Где увидеть: Государственная Третьяковская галерея, Зал 1
О том, что эта картина была в Дубровицах, мы узнали из статьи Сергея Маковского "Две Подмосковные князя Сергея Михайловича Голицына".
"Забавная Наталья Яковлевна Нарышкина с детьми — грубой, но курьезной живописи" - пишет об этом портрете Маковский - вероятно называя героиню Настасьей, что по какой-то причине превращается в Наталью. По крайней мере забавного и курьезного портрета Натальи Яковлевны Нарышкиной мы пока не нашли. Более того - мы спросили у экспертов, и они подтвердили, что портрет поступил в Третьяковскую галерею из усадьбы Дубровицы.
Жаль, что Маковский крайне мало рассказывает о том, что он увидел в доме Сергея Михайловича Голицына. На его вкус дом в Дубровицах наполнен всякой ерундой и подделками, но общее впечатление от Дубровиц это ему не испортило.
Почему портрет оказался в Дубровицах?
Тут все связано очень тесно. Дочь Анастасии Яковлевны и Кирилла Алексеевича Нарышкина Татьяна Кирилловна Нарышкина (1704-1757 интересно на портрете она справа или слева?*) вышла замуж за Михаила Михайловича Голицына (1684-1764) - деда Сергея Михайловича Голицына (первого) - унаследовавшего Дубровицы от Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова. О том, как Дубровицы перешли к Сергею Михайловичу Голицыну (второму 1864-1915) см. раздел Владельцы.
Есть и вторая линия родства.
Дочь - Софья Кирилловна бар. Строганова была замужем за бароном Сергеем Григорьевичем Строгановым - родным братом Александра Григорьевича Строганова (его "дубровицкий" портрет работы Франкарта вы наверное уже видели).
"Забавная Наталья Яковлевна Нарышкина с детьми — грубой, но курьезной живописи" - пишет об этом портрете Маковский - вероятно называя героиню Настасьей, что по какой-то причине превращается в Наталью. По крайней мере забавного и курьезного портрета Натальи Яковлевны Нарышкиной мы пока не нашли. Более того - мы спросили у экспертов, и они подтвердили, что портрет поступил в Третьяковскую галерею из усадьбы Дубровицы.
Жаль, что Маковский крайне мало рассказывает о том, что он увидел в доме Сергея Михайловича Голицына. На его вкус дом в Дубровицах наполнен всякой ерундой и подделками, но общее впечатление от Дубровиц это ему не испортило.
Почему портрет оказался в Дубровицах?
Тут все связано очень тесно. Дочь Анастасии Яковлевны и Кирилла Алексеевича Нарышкина Татьяна Кирилловна Нарышкина (1704-1757 интересно на портрете она справа или слева?*) вышла замуж за Михаила Михайловича Голицына (1684-1764) - деда Сергея Михайловича Голицына (первого) - унаследовавшего Дубровицы от Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова. О том, как Дубровицы перешли к Сергею Михайловичу Голицыну (второму 1864-1915) см. раздел Владельцы.
Есть и вторая линия родства.
Дочь - Софья Кирилловна бар. Строганова была замужем за бароном Сергеем Григорьевичем Строгановым - родным братом Александра Григорьевича Строганова (его "дубровицкий" портрет работы Франкарта вы наверное уже видели).
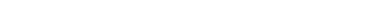
Занимательно, что на генеалогических сайтах, где представлена подробная родословная русского дворянства, о дочери по имени Александра упоминаний нет. В каталоге Таврической выставки этот портрет значится так:
Нарышкина Анст Якв, р.кж. Мышецкая (ок.1690-п.1716) , жена Кирилла Ал Нарышкина (16…-1723) с детьми Алдрой [Евдокией (1707-1779), девица] и Татьяной (1704-1757) = кн. М.М. Голицын
= ГТГ, каталог, неизв.худ.
Благодарим старшего научного сотрудника Государственного музея имени А.С. Пушкина Татьяну Дмитриеву за подсказку и помощь в наших поисках.
Нарышкина Анст Якв, р.кж. Мышецкая (ок.1690-п.1716) , жена Кирилла Ал Нарышкина (16…-1723) с детьми Алдрой [Евдокией (1707-1779), девица] и Татьяной (1704-1757) = кн. М.М. Голицын
= ГТГ, каталог, неизв.худ.
Благодарим старшего научного сотрудника Государственного музея имени А.С. Пушкина Татьяну Дмитриеву за подсказку и помощь в наших поисках.
ИИ сгенерил краткое изложение фрагмента статьи, опубликованном в сборнике
Ниже мы пытались разобрать в источнике текст, отделив его от подстрочных комментариев и сносок, но пока это нам не удалось (в силу нехватки времени) Если кратко- то в статье речь идет именно об этом - ИИ верно уловил смысл
В этом тексте рассказывается о том, как в XVIII — середине XIX вв. изображали детей на портретах. В этот период появились индивидуальные детские портреты, но поначалу они были доступны только детям из императорской семьи. Постепенно складывалось представление о самоценности конкретной детской личности и появлялись изображения детей не из знатных семей. Однако одежда и внешний облик детей оставались такими же, как у взрослых. Возрастные категории детей ещё не были дифференцированы, и детство рассматривалось как один из периодов жизни, который мог оборваться в любой момент. Автор текста приводит примеры портретов того времени, анализирует их и делает выводы об особенностях изображения детей.
Ниже мы пытались разобрать в источнике текст, отделив его от подстрочных комментариев и сносок, но пока это нам не удалось (в силу нехватки времени) Если кратко- то в статье речь идет именно об этом - ИИ верно уловил смысл
В этом тексте рассказывается о том, как в XVIII — середине XIX вв. изображали детей на портретах. В этот период появились индивидуальные детские портреты, но поначалу они были доступны только детям из императорской семьи. Постепенно складывалось представление о самоценности конкретной детской личности и появлялись изображения детей не из знатных семей. Однако одежда и внешний облик детей оставались такими же, как у взрослых. Возрастные категории детей ещё не были дифференцированы, и детство рассматривалось как один из периодов жизни, который мог оборваться в любой момент. Автор текста приводит примеры портретов того времени, анализирует их и делает выводы об особенностях изображения детей.
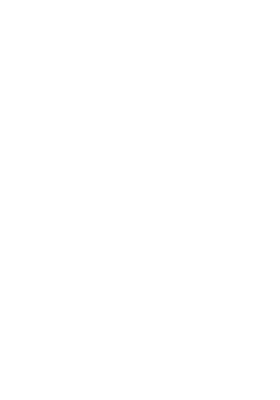
В тексте есть отсылки к изображениям, которые могли бы послужить иллюстрациями к нему.
Фрагмент статьи из ежегодника Социальная история
Некоторые блоки перепутаны. Ссылка на источник - в конце текста
Материал будет доработан после получения доступа к оригиналу текста
История детства дворянской девочки XVIII — середины XIX в. представлена в источниках различных видов и типов неравномерно, вместе с тем заметна тенденция, общая в источниковедении, к количественному росту и «усложнению структуры корпуса исторических источников» на протяжении изучаемого времени (собственно начало этих изменений маркирует «переход от средних веков к новому времени»)57. Следствием эмансипации индивидуальности становится почти одновременное появление в России «таких личностных источников, как мемуары», и портретной живописи. В частности, тема детской повседневности может изучаться по иконографии, начиная с первой четверти и середины XVIII в. В этот ранний период уже существовали изображения детей. При этом можно наблюдать не только позитивную динамику в количественном росте таких изображений, но и то, что к середине XVIII в. появились именно индивидуальные детские портреты. Однако своеобразие ситуации заключалось в том, что открытая портретным жанром уникальность детской личности признавалась пока еще, на ранних этапах, преимущественно за детьми из императорской семьи58. Тем не менее это положило начало последующему складыванию представления о самоценности конкретной детской личности, хотя в петровскую эпоху признание права на художественное воспроизведение ясно выраженной индивидуальности ребенка, будучи прерогативой потомков царя, связывалось прежде всего с их особым социальным статусом, а не собственно с пребыванием в детском возрасте, не случайно почти на всех портретах представлены устойчивые атрибуты царской власти, например горностаевая мантия. Среди сохранившихся изображений преобладают портреты девочек-царевен, поскольку, как писал английский резидент в России Д. Джефферис, из «одиннадцати человек детей» Петра I и Екатерины I «в живых остались только три царевны»59. Из ранних портретов детей, не принадлежавших к императорской семье, известно изображение первой четверти XVIII в. дочерей вместе с матерью — «Портрет А.Я. Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной» 1710-х гг.60, — изображающее в большей степени не детство как таковое, а нормативный образ женщины, неотъемлемой частью которого являлось материнство. Во-первых, это парадный портрет жены высокого столичного деятеля — К.А. Нарышкина, последнего кравчего, обер-коменданта Дерпта, первого коменданта Петербурга и с 1719 г. московского губернатора, — следовательно, изображение ее должно было «иллюстрировать» высокий социальный статус мужа61, что, собственно, и подтверждает надпись на обороте холста, в которой она характеризуется по отношению к нему:
«Портретъ Настасьи яковлевны нарышкиной рожденной княжны Мышицкой Супруги балярина кирила Алексиевича»62. Во-вторых, портрет этот имеет явную преемственность со стилем парсуны, отголоски которого, по мнению М.В. Алпатова, можно обнаружить «в искусстве портрета конца XVII — первых лет XVIII века у многих неизвестных живописцев»63. Причем в большей степени эта преемственность заметна именно в изображении лиц дочерей, что свидетельствует, на мой взгляд, об отсутствии в то время навыков художественного «видения» и воспроизведения собственно детского лица64. В-третьих, Нарышкина-мать является главным персонажем портрета — ее фигура занимает практически все пространство65, причем центральную его часть, а дочери выглядят своего рода «живым обрамлением» изображения матери. Они стоят вплотную прижавшись к ее широкой юбке, но эта слитность с матерью лишь подчеркивает, что их не воспринимали отдельно от нее. Характерные жесты рук девочек, привлекая внимание зрителей к матери, как бы призваны «сказать»: «Посмотрите, вот она, наша мама. Это она изображена на этом портрете». И хотя, думается, что, анализируя портрет Нарышкиной с дочерьми, мы имеем дело с репрезентацией в живописи первой четверти XVIII в. стереотипного представления о предназначении женщины, не следует совершенно не принимать во внимание момент эмоциональной привязанности матери к детям. Возможно, явственно показывать эти эмоции не входило в задачу конкретно данного (и вообще, репрезентативного) портрета, а, может быть, и вовсе не было принято. По крайней мере, это наводит на очень важные с точки зрения истории детской повседневности вопросы о возможности публичной демонстрации взрослыми привязанности к детям: существовало ли в то время «сюсюканье» с детьми, как к этому относились в публичном и частном пространстве, можно ли проследить динамику этого явления на протяжении XVIII — середины XIX в.?
Так или иначе, применительно к первой четверти XVIII в., судя по парадной репрезентации в иконографии, речь может идти лишь о достаточно сдержанном выражении матерью своих чувств к дочерям в публичном пространстве66. Однако это не означает, что именно социальными предписаниями, которые, разумеется, могли оказывать влияние на формирование индивидуальных предпочтений, в действительности исчерпывались эмоциональные проявления женщины по отношению к своим детям. Что касается собственно изображений двух девочек, дочерей Нарышкиных, то они представляют собой как бы «уменьшенные копии» взрослой женщины — их матери. Они одеты не как дети, а как дамы — в тот же, что и у матери, западноевропейский женский костюм, сшитый из той же роскошной материи, по той же «взрослой» моде. Младшая девочка изображена в пышном, также совсем «недетском», головном уборе, а старшая — с модной европейской дамской прической. Обе — в таких же бусах, как и у матери67. Лица их совсем не выглядят детскими, в силу той условности стиля, о которой говорилось выше, как, впрочем, не выглядят они и счастливыми, скорее болезненными. То есть на портрете первой четверти XVIII в. не наблюдается специальной детской одежды для девочек, подчеркивающей специфику именно детского образа жизни, детских занятий и времяпровождения. Вопрос еще и в том, а были ли таковые, или применительно к данному времени также права Симона де Бовуар, утверждая, что из девочки с рождения «лепят» будущую «женщину»? Важные наблюдения на основании данного портрета можно сделать относительно «возрастов жизни». В отношении младшей из девочек, Татьяны Кирилловны (1704–1757), в замужестве княгини Голицыной, надпись на обороте холста гласит: «Порътретъ въ ммладенчестве княгини татьяны кириловны Голицынои рожденнои нарышкiнои»68. А о старшей — Александре Кирилловне, которая, по предположению К.В. Михайловой и Г.В. Смирнова, «умерла в детстве, так как не упоминается в опубликованных родословиях Нарышкиных»69, — написано просто: «Порътретъ Александры Кирiловны нарышкиной»70. Это показывает, что, во-первых, надпись на портрете была сделана не одновременно с его завершением71, а гораздо позднее — самое раннее, после замужества Татьяны Кирилловны. А поскольку произойти это могло, в свою очередь, только в конце 1710-х — начале 1720-х гг., постольку, начиная, как минимум, с этого времени выявляется существование особого обозначения детского возраста — «младенчество». Обращает на себя внимание, что пребывающей в «младенчестве» названа девочка в возрасте 5–6 лет на вид (по моей субъективной оценке72). Ее современную ровесницу назвали бы отнюдь не «младенцем», а «ребенком старшего дошкольного возраста». Это свидетельствует о недифференцированности в первой половине XVIII в. возрастных категорий детей и восприятии детства в качестве гомогенного состояния, о недостаточном различении внутренних изменений детского возраста73, а, значит, не слишком внимательном наблюдении за ним. Во-вторых, «младенчество», то есть детство, рассматривалось как один из периодов жизни в том случае, если человек прожил его и перешел к следующим этапам. Если же, к несчастью, жизнь обрывалась в детстве, то оно, ассоциируясь, вероятно, со всей прожитой жизнью, не обозначалось как отдельный ее этап. В середине XVIII в. сохранялась та же традиция изображения девочек, одетых как взрослые дамы74. Но вот, что интересно! Если девочкам явно атрибутируется «женскость» внешнего облика, то есть принадлежность к женскому полу портретируемого ребенка не вызывает ни малейших сомнений, то в случае изображения мальчиков пол ребенка не выявлен столь же однозначно. Мальчиков в середине XVIII в. изображали в длинных платьицах75, или, как сказали бы сегодня, одетыми «как девочек». Тем не менее искусствоведы находят ряд косвенных признаков, по которым, с их точки зрения, дети, изображенные на портретах, могут быть идентифицированы как мальчики, — это, например «скрипка в руках одного из них, шапочка с пером, галуны и отвороты рукавов, напоминающие рукава кафтана»76. Несколько неожиданным представляется первый из названных признаков. Но при сопоставлении с другими картинами, на которых изображены музыкальные инструменты, можно проследить, что скрипка, хотя она и изображается реже, атрибутируется мальчикам/юношам с тем же постоянством, что и фортепиано девочкам/девушкам. Гендерный аспект владения музыкальными инструментами очень интересен и свидетельствует об очередном стереотипе из числа тех, что пронизывали дворянское сознание.
72 Если принимать в расчет официальную версию датировки портрета 1710-ми гг., то ей могло быть и больше 6 лет. Это корреспондирует с замечанием О.Е. Кошелевой о том, что «в древнерусской православной традиции… младенчество считали… длящимся приблизительно до 6–7 лет». См.: Кошелева О.Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI–XVIII вв.): Учеб. пособ. по педагогической антропологии и истории детства. М., 2000. С. 8. 73 См. выводы Ф. Арьеса об отсутствии во французском и английском языках «слов, отличавших маленьких детей от детей более взрослых»: Арьес Ф. Возрасты жизни // Педология / Новый век: Психолого-педагогический, публицистический журнал. 2000. № 1 (февраль). С. 10. 74 Березин И. Портрет Е.Н. Тишининой в детстве. 1758 // Кирсанова Р.М. Указ. соч. С. 60; Неизвестный художник середины XVIII века. Портрет девочки с собакой // Из истории реализма в русской живописи... № 20. Ср. также: Вишняков И.Я. Портрет Сарры Фермор. 1745–1750 // Кирсанова Р.М. Указ. соч. С. 26.
75 Неизвестный художник середины XVIII века. Портрет ребенка с собачкой. Парный последующему // Из истории реализма в русской живописи... № 16; Неизвестный художник середины XVIII века. Портрет ребенка со скрипкой. Парный предыдущему // Там же. № 17. 76 Михайлова К.В., Смирнов Г.В. Аннотация к № 16 // Там же. № 16.
61
Репрезентация в данном случае имплицитной установки на «функциональность» женщины по отношению к мужу является своего рода оборотной стороной официально принятого в то время способа социального маркирования положения женщины, опосредованного статусом отца или мужа и юридически узаконенного петровской «Табелью о рангах». Согласно последней, дворянки «включались» в служилую иерархию чинов и званий и в основанную на ней систему социального этикета, в соответствии с которой им вменялось (под угрозой наложения денежного штрафа в размере 2-месячного жалованья их мужей) позиционирование себя в публичном пространстве. Одним из важнейших аспектов такого позиционирования законодательно признавался «убор», или «наряд», которому придавалось статуснодифференцирующее значение. См.: ПСЗ. 1. Т. VI. № 3890. Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однакож воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был от 24 генваря 1722 г. П. 3, 7, 9, 19.
Не случайно Р.М. Кирсанова, анализируя модный, европейского покроя костюм А.Я. Нарышкиной на данном портрете, особо подчеркивает, что она «должна была строго следовать моде» именно как «жена первого санкт-петербургского коменданта». См.: Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII–XIX веков. М., 2002. С. 31. 62 Каталог // Из истории реализма в русской живописи... C. 188. 63 Алпатов М.В. Вступительная статья // Там же. С. 12.
64
Традиционный канон «детского» изображения сложился в иконописи применительно к образу младенца Иисуса Христа. См.: «Христово же рожество: матерь видимъ седящу, отроча же во яслехъ младо лежаще; егда же есть отроча младо, то како мрачно и темнообразно лице его тамо писати? но всячески подобаетъ быти белу и румяну, паче же и лепу, а не безлепичну…». (Из послания изографа Иосифа Симону Ушакову // Хрестоматия по русской истории / Сост. М. Коваленский. 2-е изд. М., 1917. Т. II. С. 218.) В светской же живописи художественные приемы написания портретов детей только формировались, отсюда и уклон в сторону парсуны, представлявшей собой «сочетание новых задач показа личности и старых иконных традиций письма» (Калязина Н.В., Комелова Г.Н. Указ. соч. С. 114.).
При этом стилистически изображения «обычных» детей должны были отличаться от изображений Божественного младенца, за которыми традиционно был закреплен статус «детскости», следствием чего и стало намеренное огрубление и овзросление детских лиц на ранних светских портретах.
65
В этом также могло проявляться влияние парсуны, для которой характерна, по мнению искусствоведов, «статичность композиции (когда фигура заполняет почти все пространство холста)». См.: Там же. Наличие ряда других признаков («неподвижность, застылость поз, напряженность в лицах, плоскостная трактовка формы») тоже, в свою очередь, приводит Н.В. Калязину и Г.Н. Комелову к выводу о «неизжитости парсунности» в портрете А.Я. Нарышкиной с детьми. См.: Там же. С. 115.
Социальная история: Ежегодник. 2009 / Отв. ред. Н. Л. Пушкарева. — СПб. : С69 Алетейя, 2010. — 448 с.